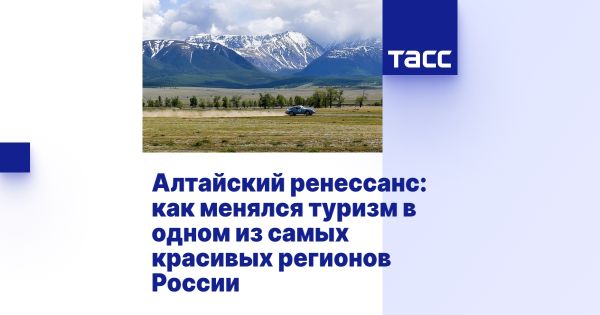Современность остается чуждой российскому театру и искусства в целом. Многие отечественные режиссеры погрязли в устаревших текстах и примитивных эстетических формах. В результате российский театр сталкивается с проблемами, такими как слепое копирование иностранных практик и шутки на тему гомосексуализма, что формирует его облик.
В связи с этим возникает важный вопрос о необходимости обновления театрального репертуара. Так, Константин Сухенко, глава петербургского комитета по культуре, неоднократно выражал предпочтение классике, считая, что она должна составлять основную часть театрального контента. Особенно это стало заметно после увольнения Юрия Бутусова, чья работа не соответствовала, по мнению чиновников, запросам зрителя.

Мэр Москвы Сергей Собянин также делился своим пренебрежением к авангардным театрам, отдавая предпочтение классическим произведениям и менее экспериментальным постановкам. Это поднимает вопрос: зачем современному театру вообще быть современным?
Хотя вопрос может показаться наивным, на него есть легитимный ответ — современное искусство, включая театр, служит площадкой для доступа к актуальным темам и эмоциям, позволяя зрителю соприкоснуться с современностью. Это делает необходимым существование театра, который отражает действительность и вызывает отклик у публики.
Модернити охватывает не только науку и технологии, но и современное искусство, которое предлагает свежие концепты и эмоциональные переживания, отражающие дух времени. Научные достижения и новейшие технологии часто оказываются недоступными для широкой аудитории. Массовая культура, политика и социальные практики, основанные на взаимодействии множества людей, подвержены инерции и сопротивляются переменам. Эти сферы продолжают опираться на знакомые законы, что затрудняет внедрение новшеств.
Определение современности имеет важное значение для глубокого понимания реальности и принятия обоснованных решений. Современный театр, в частности, служит средством для достижения счастья и удовлетворенности людей. Противопоставление традиционных методов лечения современным достижениям медицины или сравнительный анализ технологий указывает на влияние моральных и культурных стандартов, сложившихся в обществе.
Существует мнение, что искусству и театру следует придерживаться классических норм, что приводит к доминированию больших объемов классики в театральных репертуарах. Однако такое стремление порой затушевывает истинные значения и функции искусства в жизни, что ставит под сомнение понимание его роли в современном контексте. Таким образом, важно переосмыслить положение современного искусства, подчеркнув его значение в исследовании новых форм и подходов.
Современный театр должен уделять больше внимания инновациям, и оптимальное соотношение традиционного и современного искусства должно выглядеть как 20 к 80. Именно в последние годы мы видим, как традиционные спектакли, основанные на канонической драматургии, вытесняются современными формами искусства. Если не уделить должного внимания новым подходам, современное искусство рискует потерять свою значимость и влияние на основную культурную динамику.
Одними из самых заметных фигур в российском театре стали Константин Богомолов и Кирилл Серебренников, которых часто обвиняют в провокационных методах. Их работы вызывают обсуждения и споры о роли театра, провоцируя зрителей своими нестандартными интерпретациями классических пьес, современными костюмами и смелыми темами, такими как феминизм и сексуальность. Однако важно понимать, что их методы творят новый язык театра, который ищет вдохновения за пределами традиционного текста.
Современный театр не должен ограничиваться текстом или просто представлением реальности; он призван исследовать свои границы и задавать вопросы о том, что такое театр сегодня. Это эксперимент, диалог с аудиторией, процесс постоянного переосмысления. В таком контексте обвинения в чрезмерной провокации становятся менее актуальными, и важнее осознать, что театр развивается, сталкиваясь с новыми вызовами и меняющейся культурной средой.
Одним из главных аспектов нового театра является способность превращать постановку в платформу для создания смыслов, которые резонируют с актуальными социальными вопросами. Именно в этом контексте стоит смотреть на творчество Богомолова и Серебренникова — как на знаковые примеры эволюции театрального языка.
Современный театр отказывается от вертикальных иерархий и авторитарности, стремясь к эмансипации всех участников процесса. Важным элементом этой эмансипации является избегание навязывания зрителю какого-либо режиссерского или авторского мессиджа, что считается авторитарной практикой. Вместо этого современный театр акцентирует внимание на создании свободных пространств, где фантазия и мышление зрителей могут порождать различные смыслы и эмоции.
В реальности российского театра наблюдается продолжающаяся привычка режиссеров «интерпретировать классику», в то время как множество актуальных текстов XX века еще не адаптировались для сцены. В европейском театре обращение к литературным текстам стало менее популярным, и сама идея спектакля на основе такого текста вызывает недоумение. Современный театр в России уже давно освободился от диктата литературы, перестав служить лишь иллюстрацией слов на сцене.
Некоторые спектакли могут обходиться без традиционного нарратива или текста, а также без профессиональных актеров. Яркими примерами этого являются «Вещи Штифтера» Хайнера Геббельса и «Весна священная» Ромео Кастеллуччи, представленные на Рурской триеннале и основывающиеся исключительно на движении объектов и химических реакциях. Такие новшества имеют свои корни в начале XX века, когда в советском театральном авангарде уже практиковались подобные идеи. Несмотря на то, что эти эксперименты были забыты в России, они плавно перетекли в европейский постдраматический театр второй половины прошлого века.
Современный театр на протяжении последних пятидесяти лет претерпел значительные изменения. Он отошел от привычной сцены-коробки и трансформируемых пространств, вышел на улицы и экспериментировал с форматом, избавившись от традиционных элементов, таких как режиссура и зрительный зал.
В новых постановках свет и звук стали главными средствами выражения, а действия могут происходить в самых неожиданных местах — от производственных помещений до темной сцены. Этот подход к деконструкции театра также включает заимствование выразительных элементов из других искусств, что создает своеобразные партиципаторные проекты, размывающие границы между зрителем и участником.
В контексте этой трансформации в России выделяются режиссеры, которые берут классические и современные тексты, адаптируя их к актуальным условиям и ставя традиционные спектакли с живыми актерами. Их целью становится передача сообщения о реальности, что особенно ярко проявляется в работах, где используются реалистические декорации и натуральная игра актеров.
Один из таких примеров — работа Серебренникова с Пушкиным, где живые исполнители разыгрывают текст, а зрители находятся в непосредственной близости к действию. Критики сформулировали это как «прорыв в новую эстетику», подчеркивая значимость возвращения к классическим формам театра в эпоху, когда многие художники отходят от традиционных стандартов.
В новом спектакле Константина Богомолова «Волшебная гора» актриса Елена Морозова на протяжении первых сорока минут исполняет кашель, перемежая его стихами о природе. Однако это лишь легкий концептуальный прием, не имеющий глубокой новации.
Вторая часть работы, переписанная самим Богомоловым, лишь разрушает накопленное напряжение и демонстрирует посредственность. Российский театр продолжает следовать традиционным моделям, где ключевое значение имеют эффект присутствия и харизма актера. К сожалению, даже в рамках привычного сценического восприятия, эстетика и тематика проектов признанных современных режиссеров уже попросту устарели.
Среди выразительных театральных деятелей в России стоит отметить и более молодых, которые experimentируют с эстетикой, но эта попытка современности не достаточно ярка, чтобы отделить их от традиционного драматического театра. Хорошим примером служит спектакль Филиппа Григорьян «Женитьба» с участием Ксении Собчак и Максима Виторгана в Театре наций, обозначенный на сайте театра как экспериментальный.
Этот концерт легок и свеж на фоне других театральных работ, поскольку Григорьян иронично использует визуальный язык массовой культуры, создавая тем самым новое художественное высказывание.
Актеры на сцене, хотя и используют гротескную манеру, все же продолжают разыгрывать нарративный текст.
Последний спектакль Григорьяна в «Гоголь-центре» выглядит современно благодаря видеоэлементам, но в основном сохраняет традиционную театральную эстетику с актерами в декорациях перед зрителями.
В последние годы на театральной арене ярко засветился Тимофей Кулябин, ставший известным благодаря скандалу вокруг спектакля «Тангейзер».
Максим Диденко, один из самых популярных современных режиссеров, экспериментирует с физическим и иммерсивным театром.
Среди других значимых деятелей – Марат Гацалов, Олег Глушков, Денис Бокурадзе и Роман Феодори, которые следуют общим тенденциям театра.
Даже молодой режиссер Андрей Стадников, взбудораживший Москву своим спектаклем «Родина», использует знакомые приемы: зритель находится в закрытом помещении, где происходит интеллектуальная атака, а пространство трансформируется в музей во время антракта.
Несмотря на наличие некоторых современных элементов, такие особенности все равно не позволяют выйти за рамки традиционного театра.
Проблема театрального производства актуальна не только для режиссеров, но и для всей системы.
В 1960-х годах в западной культуре начался процесс «демистификации музея», который привел к появлению куратора как независимой фигуры, производящей смыслы и впечатления. Этот процесс также способствовал повышению прозрачности принятия решений, открытости к публике и экспертам, а также освобождению от институциональных ограничений.
Это дало возможность увеличения мобильности и соперничества внутри культурной среды, что, в свою очередь, улучшило качество культурных объектов. Однако театр, несмотря на свое фестивальное движение, не смог реализовать подобные тенденции и остается в стороне от этих изменений.
Несмотря на децентрализацию театров, происходящую с середины прошлого века, масштабы и результаты этого процесса далеки от уровня «демистификации» в искусстве. Система коммуникации в театре, включая театральные медиа и технологии, также остается на низком уровне, особенно в России.
Локализация и эмансипация от институций только начинают проявляться, причем интересные примеры новых театров без стационарных площадок, таких как «театр post» Дмитрия Волкострелова и «pop-up театр» Семена Александровского, обозначают этот процесс.
В обсуждениях современного театра в России трудно обойтись без упоминания Дмитрия Волкострелова. Он выделяется среди других театральных деятелей благодаря работе с современной драматургией и освоению достижений музыкального концептуализма. Спектакли Волкострелова создаются в нестандартных пространствах, таких как музеи и культурные центры, и характеризуются интеллектуальным подходом, который привлекает зрителей к активному вовлечению в процесс восприятия.
Однако его эксперименты с формой иногда становятся менее выразительными, когда речь идет о спектаклях в крупных государственных театрах, таких как «Русскiй романс» в Театре наций или «В прошлом году в Мариенбаде» на Новой сцене Александринского театра. Несмотря на новаторский подход, эти постановки вызывают привычные эмоции: ностальгию, радость узнавания и прочие стандартные чувства, что контрастирует с более глубокими психологическими состояниями, создаваемыми работами таких мастеров, как Ромео Кастеллуччи и Роберт Уилсон.
Спектакли Кастеллуччи погружают зрителя в атмосферы тревоги, в то время как Уилсон открывает новые постчеловеческие перспективы, а Хайнер Геббельс и его последователи предлагают невероятно широкий спектр восприятия. Таким образом, несмотря на талант Волкострелова, его работа в традиционных театральных рамках иногда не достигает тех же высот эмоционального воздействия, что и произведения его коллег в области современного искусства.
Российские театры представляют собой огромные структуры, которые мало изменяются и не способны быстро реагировать на современные вызовы. Они функционируют как застойные колхозы, в которых установлена жесткая иерархия, не соответствующая принципам современного искусства. Такие театры, находясь под контролем государства, ограничивают креативность, что приводит к неэффективности театрального производства. Само по себе это создает целый ряд проблем, поскольку они, скорее, сохранили музейные функции, чем стали движущей силой актуального театра.
Одним из ярких представителей петербургского театра является режиссер Андрей Могучий, который предпочитает держать процесс создания спектаклей в секрете, избегая критиков и журналистов. Он считает, что театр требует интимности, близкого контакта с первыми зрителями для успешного формирования своего произведения.
Другой известный режиссер Лев Додин lamentирует исчезновение репертуарных театров, отмечая, что проектный театр не создает глубоких переживаний и эмоций. В театральной среде закрепилась точка зрения о том, что уникальность театра невозможно зафиксировать на видео, что он существует лишь в моменте. Это утверждение, хоть и популярно среди критиков, ограничивает возможности для дальнейшего осмысления и популяризации театрального искусства.
В российских театральных кругах существует мнение, что для полного понимания спектакля зрителю необходимо находиться в зале и изучать влияние критиков, что порой создает впечатление, что современный театр доступен лишь узкому кругу специалистов.
В данной практике прослеживается стремление театральных деятелей 40+ окутать искусство атмосферой таинственности и духовности, что может впечатлить зрителя и создать иллюзию глубины происходящего на сцене. Иногда это напоминает углубленное самовнушение, которое забавляет, ведь подобные режиссеры напоминают сумасшедших гениев XIX века, верящих, что с их фантазией может возникнуть целая вселенная, способная удивить современного зрителя.
Однако театр — это не магия, а идеи и эмоции, которые устаревают и требуют постоянного обновления.
При этом российский театр испытывает сильное влияние иностранных форматов и эстетик. Продюсер Федор Елютин и фестиваль «Территория» привозят в Москву проекты популярных европейских театров, таких как «Rimini Protokoll», и это популяризирует новые подходы.
Режиссер Семен Александровский экспериментирует с аудиоспектаклями в городских пространствах, заимствуя стилистику западных проектов. Иммерсивные шоу, адаптированные по международным лекалам, часто разочаровывают, когда исполняются неумелыми актерами.
Художник Роман Феодори также прибегает к заимствованию визуальных кодов западного театра, что нередко приводит к получению престижной премии «Золотая маска», хотя это вызывает вопрос о подлинности и оригинальности.
Таким образом, современный театр в России, несмотря на все попытки копирования успешных моделей, все еще ищет свой уникальный стиль и голос.
Оптимизм критиков современной российской театральной сцены вызывает недоумение. Они подчеркивают сложные условия, в которых работает театр: давление государства, сокращение финансирования и угасшее внимание к культуре. Однако эти обстоятельства, на их взгляд, затрудняют инновации. Неужели они не замечают, что именно сейчас, когда ресурсы ограничены, открываются уникальные возможности для децентрализации и развития локальных проектов?
В отсутствие обильного государственного финансирования театр может сосредоточиться на поиске внебюджетных источников, улучшении маркетинга и коммуникаций, создании театральных медиа, organично отвечающих потребностям аудитории.
Современный театр стал областью локального интереса. Проблемы многих театров в развитых странах, таких как США, Великобритания и Канада, делают российскую сцену уникальной. В то время как в России по-прежнему существуют режиссеры, такие как Лев Додин, уверенные в психологическом подходе к театру, другие – например, молодые театралы из Китая – копируют европейские тенденции, в том числе из Германии и Польши.
Несмотря на ограниченное количество зрителей, заметна тенденция к увеличению аудитории. Развитие технологий освобождает людей от рутинного труда, что делает театр важной площадкой для передачи ценностей и идей. Возможность безусловного дохода и свободного времени открывают перед театром новые горизонты.
Тем не менее, Россия пока занимает скромное место среди стран, где театры могут успешно адаптироваться к изменениям. Страна теряет время, не осознавая, сколько возможностей упускает. Театру нужно мобилизовать свои ресурсы и действовать эффективно, создавая спектакли и проекты, которые будут говорить о современности, затрагивая актуальные темы и привлекая новую аудиторию.