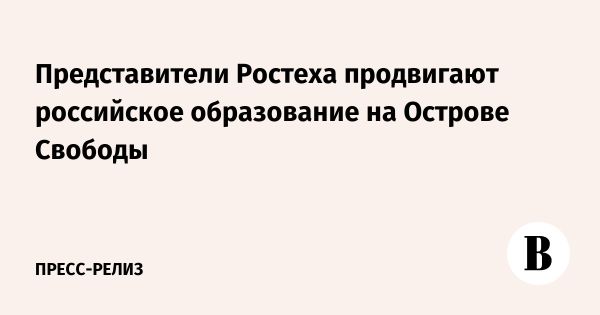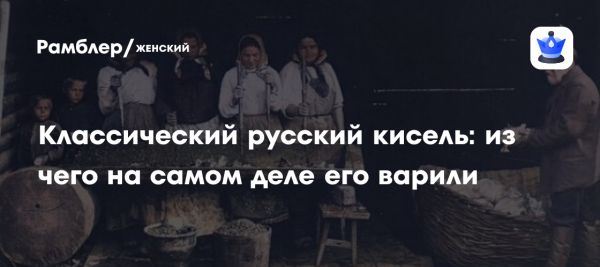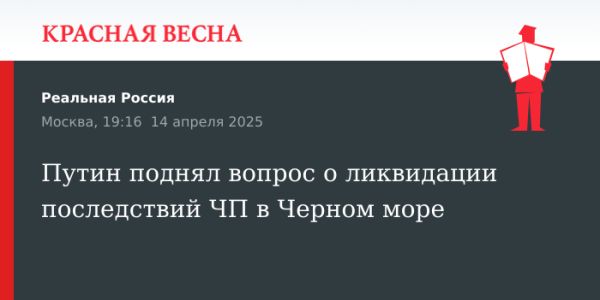Трагедия теряет свою суть, если в ней отсутствует развязка и катарсис, а актеры забывают выходить со сцены. Зрители, даже самые внимательные, утомляются от длительного напряжения, вызванного затянутыми сценами. Законы жанра требуют соблюдения определенных условий: если бы Беккет задумал трагедию, он бы ввел Годо. Однако его пьеса представляет собой антитрагедию, удачно вызывая у зрителей дискомфорт, который заставляет их ерзать на стуле и нервно смеяться.
Театр абсурда и реальность боевых действий начали сливаться; даже новости о флаге, водруженном над «Пятерочкой», воспринимаются с иронией спустя четыре года конфликта. Даже такие фигуры, как Зеленский, изменяются. Вначале он представал в образе отважного лидера, тогда как теперь кажется скорее выставленным на показ артистом в одном и том же костюме.

Как бы страшны ни были события, они начинают восприниматься с гротеском и даже травести, стирая грань между трагедией и комедией, создавая необычный карнавальный мир. В таком «антимире», который описывал исследователь древнерусской пародии Дмитрий Лихачев, все взаимосвязано: конец чего-то старого всегда готовит начало нового, а противоречия между высоким и низким теряют свою значимость.
В бахтинском понимании карнавальная стихия представляет собой живое, спонтанное и бунтарское явление, находящееся в постоянной оппозиции к власти и официальным праздникам. Власть можно уподобить закрытой системе, тогда как карнавалы выступают как ее энтропия, мешая порядку окончательно победить хаос.
Агенты этой энтропии — нонконформистские художники, которые делают из пропаганды фарс, а традиционные ценности превращают в буффонаду. Однако парадокс современности в том, что государство стало тем самым художником, организующим балаган. Гротеск и китч получили официальное признание, а народный смех трансформировался в казенный юмор.
Государство неосознанно переняло методы тех, кого раньше отвергало. Мы продолжаем жить в произведениях Сорокина и акциях арт-группы «Война», хотя сами их создатели исчезли из поля зрения.
В то же время появляется голос Акима Апачева, утверждающего, что «настоящий русский художник должен быть на острие, в прифронтовой зоне». Он считает, что современные артефакты, такие как прифронтовые граффити, имеют большее значение, чем работы Великих мастеров, таких как Малевич и Кандинский.
Пафос его слова пронизан стремлением к независимости и дерзости, противопоставляя себя патриотической клише, олицетворяемому «обучаемой патриотической нейросетью» Шаманом. Апачев желает достичь успеха, сопоставимого с нашумевшей акцией на Литейном мосту, даже если это будет в ином формате.
Аким остается Акимом, вызывая лишь неловкость при взгляде на его «наскальную живопись». Всего пятнадцать лет назад подобные художественные акции были бы воспринимаемы иначе, чем сегодня, когда они перекликнутся с официальной риторикой и военными событиями.
Митрополит Екатеринбургский и Верхнетурский, записывая кружочек, призывает людей прикоснуться к трубе, словно к святыне, утверждая, что каждый парень мечтает быть на передовой. Губернатор Хинштейн предлагает сделать музеефицировать «Пятерочку» как объект культурного наследия, вместе с несмываемыми надписями Акима Апачева. Это вызывает смешанные чувства: мемориальный комплекс стабильности включает в себя такие парадоксы, как магазин и трубу, снабжавшую его полки товарами.
Клип Акима Апачева «Русский мир» также становится нематериальным памятником эпохи. Он предлагает восемь минут медитативного пути по бездорожью на пыльной «буханке». В этом видео сопровождается монотонным перечислением имен погибших, которые были переданы Апачеву. Это как бы синодик русского мира, помещенный в скромную похоронную процессии, где одна «буханка» трясется по дороге.
До последнего момента клипа зритель ощущает, что в машине находится труп, и финал может подразумевать развязку, характерную для остросюжетного хоррора. Так, на контрасте с худosoй акцией, появляются символические элементы, отражающие текущую реальность.
Однако зрителя обманули! «Буханка» движется в неизвестном направлении, возможно, к уже разрушенному пункту назначения. Поскольку назад пути нет — там проложены мины, она продолжает двигаться по инерции. Русский мир можно охарактеризовать как прорыв через грязь в течение восьми минут или восьми лет, после которого приходит осознание бесполезности этого пути.
Можно сказать, что Россия, сначала ставшая заложницей этой «буханки», затем ползла 16 километров по газовой трубе, чтобы в итоге оказаться на карнавальном «антимире». Концерт Вики Цыгановой, проходивший на месте расстрела царской семьи, напоминал атмосферу сатанинского шабаша. Вглядевшись в слова её песни о страхе и безумном танго смерти, едва ли можно поверить, что это может происходить всерьез.
Мозг, не в силах воспринять это безумие, переходит в режим выживания, выдвигая разумные объяснения, как будто за этой игрой стоят какие-то кукловоды. Но суровая правда в том, что это всего лишь игры разума.
В Екатеринбурге открыли выставку и памятник операции «Труба» в Курской области, и один человек был задержан. Следует вспомнить Бахтина: карнавальная культура ломает все социальные иерархии, лишая людей индивидуальности и вовлекая всех без разбора — от дурака до короля. Эта безудержная вихревая энергия карнавала не оставляет места для укрытия.
Боевые действия не только создают новые границы, но и формируют необычную эстетику. Порой эта эстетика бывает настолько странной, что трудно отличить трагедию от фарса. Явление карнавала, которое воспринимается как отражение перевернутого мира, началось задолго до сегодняшних событий. Оно накопительное и произошло, например, с образами бабушки с флагом, Евгения Пригожина, требующего боеприпасы, и Сергея Миронова с кувалдой, которая из орудия казни превратилась в объект троллинга. Карнавализация активно начала развиваться после 22 февраля, отражая идею смешения высоких и низких проявлений.
Язык стал мощным инструментом, и многие выражения теперь являются табуированными, подпадая под действия Уголовного кодекса. Например, такие фразы, как «тыквенное латте на губах не обсохло», стали символами новой реальности. Социальные сети превратили театр боевых действий в иммерсивное пространство, где военные, их семьи и обычные зрители теперь взаимосвязаны. В отличие от предыдущих веков, когда боевые действия были ограничены рамками командования и военных, теперь они вовлекают всех — от непосредственно участвующих до простых наблюдателей.
Как заметил Бахтин, «пока карнавалы совершаются, у людей нет другой жизни, кроме карнавальной». В условиях войны законы карнавала переплетаются с законами времени военных конфликтов. Линия боевого соприкосновения размазывается с каждой пулей и каждым постом в интернете, размывая грань между настоящими войсками и «диванными» активистами. Это явление воспринимается как нечто обыденное в текущей реальности, где многое уже стало делом насмешки или шутки, подчеркивающей абсурдные стороны войны.