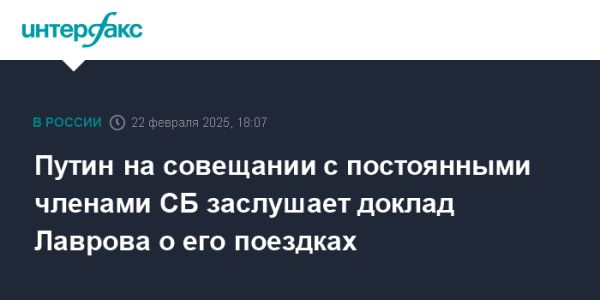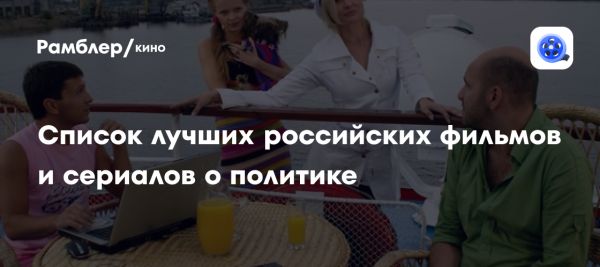Только что вступив в должность, президент США Дональд Трамп 23 января 2025 года представил на Всемирном экономическом форуме в Давосе ряд радикальных экономических предложений.
Одно из ключевых заявлений касалось снижения мировых цен на нефть, что, по его мнению, могло бы способствовать завершению военного конфликта на Украине.

Такое заявление президента США, как самой влиятельной страны в мире, не остается без внимания, поскольку снижение цен на нефть может иметь значительные последствия для многих стран, включая Россию.
Исторически, при уменьшении мировых цен на нефть страны-экспортеры сталкиваются с финансовыми потерями, связанными с уменьшением доходов государственного бюджета, снижением выручки нефтяных компаний и сократившимся спросом на продукцию смежных отраслей.
Падение нефтяных котировок также приводит к снижению цен на другие виды ископаемых, такие как газ и уголь, что дополнительно затрагивает российскую экономику, активно занимающуюся экспортом этих ресурсов.
Уменьшение экспортных доходов в свою очередь негативно сказывается на курсе рубля и общей финансовой стабильности страны.
Тем не менее, важно отметить, что иногда масштабы ущерба от падения нефтяных цен преувеличиваются; в странах с диверсифицированными экономиками последствия колебаний цен часто не являются критическими.
Многие производители углеводородов из стран-экспортеров действительно могут выгоды от падения мировых цен, снижая затраты на энергоресурсы.
Однако, анализ кризиса советской экономики в конце 1980-х показывает, что его причины гораздо глубже, чем просто падение цен на нефть.
В те годы СССР экспортировал всего 19-22% от добываемой сырой нефти, и лишь 27-38% из этого объема вывозилось за границу за свободно конвертируемую валюту.
Основная масса нефтепродуктов поступала по льготным ценам в социалистические страны, что делало СССР менее чувствительным к мировым ценовым колебаниям.
В результате, лишь 6–8% сырой нефти в значительной степени зависели от мировых цен.
Экспорт нефтепродуктов и газа тоже показывал схожую картину: за границу вывозилось менее 20% производимого сырья, и лишь 40-60% из этого объема торговались по рыночным ценам.
Таким образом, несмотря на негативное влияние падения цен на нефть, ущерб был ограниченным.
По оценкам экспертов, в период с 1984 по 1987 год, потери государственного бюджета из-за снижения нефтяной экспортной выручки составляли около 1,3% от ВВП страны.
Неприятная история с кризисом в позднесоветской экономике была вызвана неспособностью централизованного планирования справиться с накопившимися проблемами и неудачными институциональными экспериментами.
Даже высокие мировые цены на нефть не смогли бы остановить негативные процессы в тогдашней экономике.
Современная российская экономика отличается от советской, но сталкивается с серьезными рисками из-за долгосрочного снижения мировых цен на нефть.
В настоящее время доля углеводородов, экспортируемых из России, значительно возросла и составляет 45–50% нефти и 25–30% газа.
Практически весь объем углеводородов продается на рыночных условиях, что делает доходы от экспорта и государственного бюджета зависимыми от мировых цен.
В случае падения цен на 15–20% возможные потери для экономики могут достигнуть нескольких десятков миллиардов долларов, что составляет 1,5–3% от ВВП.
Однако существуют факторы, способствующие более быстрой адаптации современной экономики к ценовым колебаниям по сравнению с советским плановым хозяйством.
Современный экспорт России намного более разнообразен по сравнению с советским периодом.
На сегодняшний день страна поставляет на международные рынки не только углеводороды, но также значительные объемы черных и цветных металлов, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, машин и оборудования, а также лесоматериалов.
Это разнообразие в экспортных поставках способствует повышению общей устойчивости национальной экономики.
За последние десятилетия российское государство разработало ряд механизмов, направленных на смягчение влияния ценовых колебаний на мировом нефтяном рынке.
Одним из ключевых аспектов является создание государственных резервных фондов, таких как золотовалютные резервы и Фонд национального благосостояния, которые пополняются в благоприятные периоды и используются в кризисные времена.
Также важным инструментом является плавающий обменный курс рубля, который, несмотря на свою неоднозначность, помогает снизить влияние краткосрочных внешних шоков, поддерживая конкурентоспособность экспорта даже в условиях низких мировых цен.
Вдобавок, российские власти используют обязательную продажу экспортной валюты на внутреннем рынке, что позволяет контролировать колебания курса и стабилизировать рубль в периоды его чрезмерного ослабления.
Эти меры, в совокупности, формируют более устойчивую экономическую среду для страны.
В последние годы российские власти пытаются переориентировать часть экспортных сырьевых поставок на внутренний рынок, хотя успехи в этом направлении пока ограничены.
Например, повышение газификации регионов России является одной из таких попыток. Это может помочь смягчить зависимость экономики от колебаний цен на внешних рынках.
Однако прогнозирование нефтяных цен на мировом уровне, особенно в долгосрочной перспективе, остается сложным. Нынешние цены зависят от множества факторов, включая географические, климатические и политические обстоятельства.
В отличие от поствоенной эпохи, до энергетического кризиса 1973-74 годов, когда нефтяные цены контролировались ограниченным числом стран и транснациональных компаний, в настоящее время на рынке действуют разнообразные игроки.
После появления новых мощных нефтедобывающих государств, включая картель «ОПЕК» и финансовых спекулянтов, структура рынка сильно изменилась.
В результате этого мы наблюдаем значительную волатильность цен на нефть, что создает трудности даже для опытных аналитиков.
Сегодня нефтяные цены действуют независимо и сложно предсказуемы, что добавляет неопределенности для стран-потребителей и производителей.
В современном контексте контроль над нефтяными ценами со стороны политиков представляется крайне сложным.
Исторический опыт, например, контроль США над ценами и успешные маневры ОПЕК для их коррекции, подталкивают политиков, таких как Дональд Трамп, к попыткам повлиять на рынок.
Это желание, хотя и не лишено смысла, может привести к серьезным последствиям, если уговорить ведущие нефтедобывающие страны увеличить добычу или активизировать использование стратегических запасов нефти.
В краткосрочной перспективе такие меры способны снизить цены, однако, они нарушают баланс на мировом рынке.
Такие дисбалансы приводят к важным потерям как крупных, так и мелких участников рынка, что запускает механизмы восстановления равновесия, зачастую с обратным эффектом.
Экономика в долгосрочном плане всегда имеет большее значение, чем временные политические решения.
Правительства, принимая решение о вмешательстве на нефтяные рынки, будут тщательного оценивать возможные последствия, акцентируя внимание на трех ключевых вопросах.
Во-первых, необходимо понять, кто выиграет, а кто проиграет от снижения цен на нефть.
Прежде всего, это затронет страны, сильно зависящие от продажи углеводородов, в то время как потребители выиграют от снижения цен.
Создание компенсационных мер для пострадавших участников рынка будет стоять на повестке дня, чтобы минимизировать негативные последствия.
Ответ на второй вопрос в текущей ситуации представляет собой сложную задачу.
С одной стороны, можно перекладывать вину за проигрыш на определенные страны и компании. В период с 2022 по 2024 год США и Европа пытались именно так, вводя потолок цен на российскую нефть и блокируя поставки углеводородов на привлекательные рынки. Диверсия на «Северных потоках» явилась логичным шагом в рамках этой стратегии.
Основной целью западных геополитических противников было снижение цен на российскую нефть. Однако, с другой стороны, атаки на экспорт российских углеводородов оказались не слишком успешными. Большинство стран, включая крупных потребителей нефти, таких как Китай и Индия, не только продолжили покупать, но и значительно увеличили объемы закупок российских углеводородов.
Попытки лишить морские перевозки российской нефти страховки и запретить заход в порты оказались бесполезными. В таких условиях основная часть российской нефти, вероятно, доставлялась «серыми» и «темными» танкерами. По оценкам специалистов, состав «серого» флота включает примерно 1000 судов, а «темного» — около 1300, причем оба постоянно пополняются.
Остановить функционирование этого «облачного сервиса», действующего во всех морях и океанах, фактически невозможно. Тем временем, проблемы с поставками российского трубопроводного газа частично компенсировались увеличением объемов поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России.
Российские экспортеры нефти и газа быстро адаптировались к новым условиям, создав альтернативные экспортные сети, которые функционируют без серьезных перебоев. Это привело к тому, что к 2024 году ценовые скидки на российские углеводороды минимизировались, что, в свою очередь, обеспечивает стабильный поток доходов в бюджет как компаний, так и государства.
Однако президент Трамп собирается изменить ситуацию, предлагая снизить цены на нефть не только из России, но и на всю мировую нефть. Это создаст давление на российскую экономику не благодаря санкциям, а из-за общего падения цен. Этот план ставится под сомнение из-за сложной глобальной ситуации в нефтяной отрасли.
Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока технически могут увеличить добычу и снизить цены, но это противоречит их экономическим интересам, поскольку бюджеты зависят от высоких глобальных цен. К тому же, для этого им придется нарушить соглашения ОПЕК, рискуя потерей доверия партнеров.
Также Соединенные Штаты, увеличившие добычу углеводородов, имеют возможность обвалить цены, но существуют значительные риски и сложные последствия таких действий.
Одна из главных проблем американских нефтяных компаний заключается в значительной себестоимости добычи и производства нефтепродуктов. Эта себестоимость заметно выше, чем в России, что приводит к тому, что при падении цен на нефть американские компании могут покинуть рынок быстрее, чем российские.
Это напоминает фразу из советского кинематографа о том, что мощный противник может не устоять на тонком льду.
Найти адекватный ответ на третью проблему сложнее. Можно теоретически предложить экспортерам углеводородов новые ниши на рынках, вытеснив при этом российские ресурсы. На европейских газовых рынках эта стратегия частично сработала благодаря закрытию ряда российских трубопроводов.
Однако в сфере нефти и нефтепродуктов такая тактика не даст результата из-за существующей разнообразной сети поставок. Власти США могут предложить своим компаниям субсидии, но этого недостаточно для компенсации убытков из-за снижения глобальных цен на нефть.
В нынешних условиях администрация США вряд ли начнет серьезные действия для снижения цен на нефть. Тем не менее, возможно, что президент Трамп продолжит использовать тему нефтяных цен в своих политических целях.