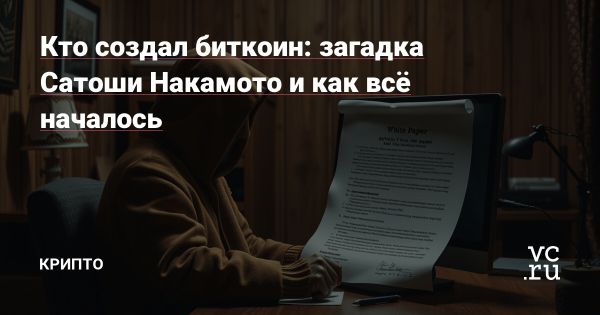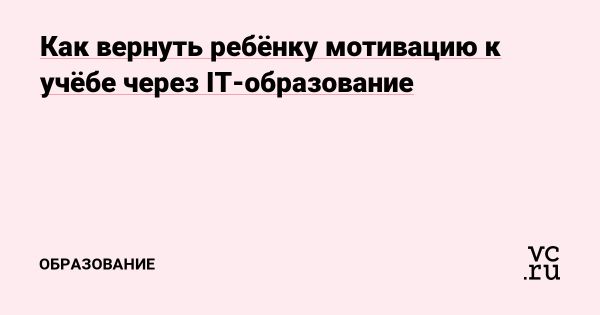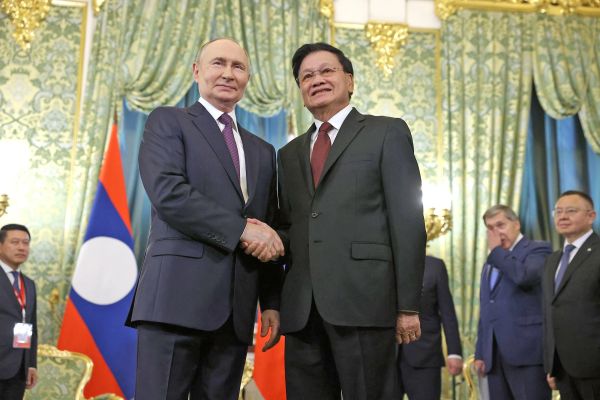После войны Сергей Вавилов, президент Академии наук СССР, отметил, что военное оборудование, обмундирование и медикаменты были результатом научных исследований. В условиях жесткого цейтнота советская наука и промышленность сумели создать оружие победы, несмотря на срочную эвакуацию ведущих институтов и предприятий, что создавало сложности с адаптацией людей к новым условиям работы.
Во время войны наука активно интегрировалась в производственные процессы, что позволяло эффективно решать задачи непосредственно на местах. В кратчайшие сроки разрабатывались новые технологии, которые превосходили существующие разработки, в том числе и германские. Например, уже 23 июня, еще до создания Государственного комитета обороны, Академия наук проводила заседание, на котором ставился вопрос о перестройке работы для нужд фронта и тыла.

Вскоре, перед началом Московской битвы, был представлен план работы Академии, который определял 245 тем для разработки в сфере обороны. Это подчеркивает, что во время войны наука стала важной частью производственного процесса. Приоритетным направлением стало быстрейшее внедрение разработок, которые показывали хорошие результаты на испытаниях.
Эффективная интеграция науки в промышленность обеспечивала успех в создании новых технологий, которые напрямую отправлялись на фронт, тем самым способствуя победе.
В ходе Второй мировой войны были разработаны сотни уникальных образцов, сыгравших ключевую роль в победах. Как сказал маршал Константин Рокоссовский: «Войну мы выиграли ранеными». Он говорил о тех замечательных медицинских достижениях, которые позволили вернуть в строй 72,3% раненых и 90,6% больных солдат.
Особенно значимым вкладом в эти достижения стал труд микробиолога Зинаиды Ермольевой, которой в начале войны было поручено срочно создать антибиотик на основе отечественного сырья.
В условиях нехватки пенициллина, который поступал в СССР в ограниченных количествах, группа Ермольевой должна была искать специальные виды плесени для его производства. Их поиски велись в самых неожиданных местах — от травы и земли до стен бомбоубежищ. Наконец, им удалось найти мощный штамм, способный производить пенициллин.
В условиях ограниченного времени и ресурсов команда быстро организовала синтез антибиотика и начала его испытания в госпиталях. В 1943 году в СССР было запущено массовое производство первого отечественного антибиотика — «крустозина». Это лекарство стало настоящим прорывом: смертность среди раненых и больных сократилась на 80%, а количество ампутаций уменьшилось на 30%, что позволило многим солдатам вернуть здоровье и продолжить службу.
Работа Зинаиды Ермольевой получила международное признание в 1944 году, когда в СССР прибыл профессор Говард Флори, один из создателей пенициллина. Он привез с собой штамм препарата и, узнав об успешном применении советской разработки, предложил сравнить его с американским аналогом. В результате эксперимент показал, что советское лекарство было в 1,4 раза эффективнее.
Флори, впечатленный результатами, назвал Ермольеву «Мадам Пенициллин». Жизнь Ермольевой вдохновила Вениамина Каверина на написание романа «Открытая книга», который по сей день вдохновляет молодых ученых на новые медицинские открытия.
Тем временем в 1920-х годах новые скоростные самолеты начали терять устойчивость в полете, что приводило к необъяснимым катастрофам. Проблема раскрылось, когда выяснили, что высокая скорость (свыше 400 км/ч) вызывает внезапную вибрацию крыльев и оперения, получившую название «флаттер». Для изучения этого явления была сформирована команда в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).
Важнейшая задача заключалась в том, чтобы создать теорию флаттера, основанную на дифференциальных уравнениях, и к этой работе подключили молодого, но талантливого выпускника МГУ Мстислава Келдыша, который уже успел проявить свои способности в математике.
В процессе решения проблемы флаттера группа специалистов во главе с Келдышем разработала новое уравнение динамики и основала раздел функционального анализа, известный как «теория пучков Келдыша». В то время исследователям не удавалось воспользоваться компьютерами: в их арсенале имелись лишь логарифмическая линейка и арифмометр.
Конфликты вокруг данной теории в ЦАГИ вспыхнули с новой силой. Разные группы специалистов имели свои интерпретации явления, что выливалось в споры и даже привело к обвинениям в адрес авторов теории. Один из работников написал письмо в Центральный Комитет ВКП(б), оспаривая расчеты и указывая на возможное вредительство. Обостряло ситуацию и дворянское происхождение Келдыша, наличие высокопоставленных предков, а также участь его репрессированных родственников. Однако разбирательства в его отношении завершились благоприятно.
В 1940 году Келдыш подготовил «Руководство для конструкторов», в котором описывались методы расчетов флаттера и даны рекомендации по предотвращению этого опасного явления. Эти достижения способствовали повышению безопасности советских самолетов и вывели их на уровень, обеспечивающий защиту лучше, чем в других странах.
Вскоре молодому ученому предстояло столкнуться с новой сложной задачей. В середине 1940-х годов, с приходом реактивной авиации, начали использовать шасси с носовой опорой, и возникла проблема: во время взлета или посадки переднее колесо иногда поворачивалось вокруг стойки, что грозило самолету сходом с полосы или даже затаскиванием носом в землю.
При разрыве передней стойки шасси самолеты и их пилоты рисковали жизнью. Это явление получило название «шимми», ассоциируя его с популярным танцем того времени, во время которого человек быстро вертит туловищем.
Для изучения проблемы конструкторами была приглашена работа математика Мстислава Келдыша. Задача, поставленная перед ученым, не уступала по сложности вопросу флаттера. Келдышу удалось описать шимми с помощью математических уравнений, что позволило ему сформулировать конкретные рекомендации по его устранению.
В результате применения этих рекомендаций отечественные самолеты перестали «танцевать» на взлетной полосе, а за весь период войны не было зафиксировано серьезных поломок, вызванных этим эффектом.
В 1946 году Келдыша избрали действительным членом Академии наук, когда ему было всего 35 лет.
В начале войны стало очевидно, что как фронту, так и тылу остро необходим жидкий кислород, играющий ключевую роль в медицине для сложных операций и лечения ожогов, а также в промышленности для авиации и танковых войск.
В связи с этим был создан Главкислород при Совете министров, где начальником назначили Петра Капицу. Ученый, обладавший уникальными знаниями, ранее разработал первый поршневой детандер для сжижения газов, что делало его идеальным кандидатом на эту должность.
Петр Капица продолжил свои исследования после возвращения в СССР, сосредоточившись на создании турбодетандера - более совершенной машины по сравнению с устаревшими поршневыми вариантами. Его работы по сжижению газов начались в Кембридже и были продолжены в СССР, где он создал самую эффективную установку для получения жидкого кислорода, необходимого для фронта.
В 1930-х годах ведущие мировые турбодетандеры производились в Германии, но технология их получения была сложной и затратной, с эффективностью около 50%. Чтобы превратить кислород в жидкость, его требовалось сжать до давления 100 атмосфер. Однако Капица разработал турбодетандер с КПД почти 90%, требуя лишь 6-7 атмосфер для сжатия кислорода. Благодаря оригинальной конструкции его установка стала самой производительной в мире.
Активное внедрение технологии началось в сентябре 1941 года в Казани с сборки экспериментальных установок. Всего через год был создан первый образец с производительностью 200 кг/ч, а к началу 1943 года работы начались над новым комплексом, который имел мощность в десять раз больше. Этот проект стал критически важным для армии, обеспечив тысячи бойцов необходимым ресурсом для победы в бою.
С первых дней войны физики получили стратегическую задачу - защитить флот от немецких мин, что подчеркивало важность работы Капицы в условиях военного времени.
18 июня 1941 года немецкие войска начали устанавливать минные заграждения на Балтике, чтобы изолировать корабли советского флота в базах. В ночь с 21 на 22 июня магнитные мины появились вблизи Севастополя и других черноморских портов, что привело к потерям военных судов.
В ответ на эти угрозы в Севастополь была срочно направлена группа ученых, возглавляемая Анатолием Александровым и Игорем Курчатовым, для внедрения «системы ЛФТИ» — метода размагничивания кораблей. Исследования по защите судов от магнитных мин начались в СССР еще до войны в Ленинградском физико-техническом институте.
Научная группа разработала способ защиты от неконтактных мин, которые срабатывали на изменение магнитного поля судна. Солидную часть работы составляло размагничивание корпуса корабля с помощью обмоток, созданных для компенсации его магнитного поля. Это позволяло сделать корабли «невидимыми» для магнитных мин.
Первым испытанием метода стало проведенное на линкоре «Марат» в октябре 1938 года, и к началу Великой Отечественной войны данный метод был готов к использованию. Он сыграл важную роль в сохранении сотен судов и тысяч жизней, что помешало планам немецких войск заблокировать советский флот.