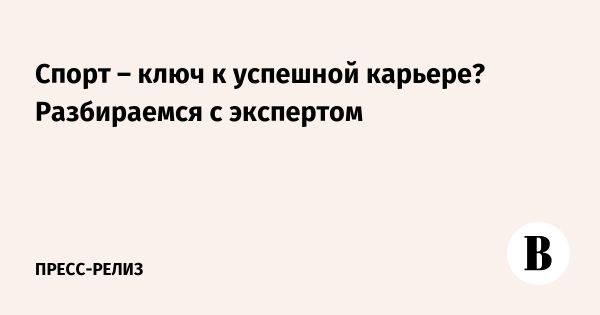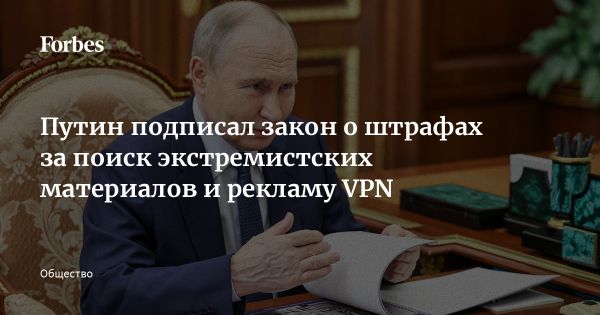Спектакль «Разбойники», поставленный Евгением Закировым в Московском академическом театре им. В. Маяковского, получился насыщенной историей о молодых людях, стремящихся избежать честного существования. Он носит название «поэтической бойни», однако поэзии в нем не обнаруживается.
Действие, продолжающееся более трех часов, уходит в бытовую плоскость с акцентом на современные интерпретации классических текстов, что приводит к отсутствию четкой идеи и нравственного вывода, который был характерен для XVIII века.

Спектакль начинается с общей сцены, где актеры делят текст предисловия на голоса; данный прием смахивает на попытку школьного театра, не вызывая впечатления у зрителей. Режиссер, выполняющий и авторские функции, создает неожиданные переходы между локациями, которые порой не соответствуют оригиналу.
В замке Моров, вокруг длинного мраморного стола, мы встречаем персонажей: живого Франца, лишенного романтики, его отца Максимилиана, изображенного с фальшивыми седыми кудрями и опирающегося на ходунки, и комического слугу Даниэля.
На сцене бушует хаос: трупы и ужасы заполняют пространство, но истинная цель режиссера остается неясной. Главный герой, брат-злодей, слишком долго готовит своего отца к известию о моральном падении своего старшего сына, но даже наблюдая за их взаимодействием, становится очевидно, что он лжет.
Сам Максимилиан, в своем невидении, участвует в легкомысленных сценах, предложенных режиссером. Хотя он подписывает гневное письмо Карлу, быстро успокаивается и уходит, разговоры о потерянных кораллах не кажутся ему важными.
Тем временем Франц наслаждается своей победой, активно демонстрируя драматические жесты, чтобы подчеркнуть свою темную сущность. Зрители тем временем следят за несчастным братом Макаром Запорожским, который, словно привязанный к своим неудачам, оказывается то в тюрьме, то среди вооруженных лагерей.
Его буйство на сцене приводит к появлению первого трупа - тряпичной куклы, удивительно эффектно осыпаемой конфетти, что создает впечатление красного мертвого тела, как будто призывая на помощь зрителей.
Позже, после драматического побега, Карл оказывается среди своих новых связей – группы, которая по недоразумению оказывается студентами. Это не те романтики, какими их изображал Шиллер; вместо мечтаний о справедливости они стали жестокими бездельниками, целеустремленными лишь к богатству и свободе.
Таким образом, спектакль воплощает полное искажение оригинального замысла, предлагая зрителям не идеализированные образы, а порочные, гротескные caricatures.
Карл испытывает непреодолимое желание вернуться в родной дом, что вызывает раздражение у его друзей. Они считают, что его тяготит финансовое положение, однако один из них уверяет, что отсутствие денег - не является главной проблемой. Настоящая трудность заключается в проклятии, наложенном на Карла его отцом.
Это проклятие шокирует героя и побуждает его к импульсивному поступку: он соглашается участвовать в грабежах в Богемских лесах. Однако действия персонажей выглядят неубедительными и недостаточно мотивированными. Режиссура предлагает зрителю лишь яркие, но бессмысленные сценические крики и беготню по столам. Превращение Карла из безambицийного студента в разбойника происходит слишком резко.
Его брат также подается влиянию этого ссоры, что приводит его к намерению избавиться от отца и завоевать невесту Карла, Амалию. Актриса Кира Насонова, исполняющая роль Амалии, выступает наиболее убедительно и соответствует стилю пьесы Шиллера, но современная интерпретация её игры несколько ослабляет общее впечатление.
К тому же, добавление юмора в представление, предложенного режиссером, от средней оценки спектакля. Например, интрига с ложным сообщением о гибели брата становится длинным номером с комичным персонажем в нелепом костюме, который пытается ввести всех в заблуждение, изображая фиктивные «подвиги» из жизни Карла и проявляя чрезмерный восторг, что окончательно разрушает атмосферу серьезности и напряженности.
Зал театра смеется, и в этот момент трудно поверить, что зрители наблюдают за глубокой драмой. При этом молодых режиссеров вроде Евгения Закирова может постигать недоразумение романтической иронии Шиллера, но это не их ошибка.
Сюжет развивается, однако не хватает четкой концепции и нажатия на эмоции, присущего хорошей пьесе – картина изобилует мертвецами, а главный герой, Карл, запутан в бесконечных сражениях, в то время как его брат выступает как комичный злодей, оправдывающий свои действия простым языком. Это придает спектаклю обыденный оттенок.
Среди переводчиков текста выделяются фамилии М. Достоевского, Н. Мана и Т. Зборовской, и интересно узнать, в каком переводе один из героев восклицает: «Обалдеть! Я с вами разговариваю!», а другой отвечает: «Даниэль, отсохни!». В финале же, по сути, «отсыхают» все персонажи.
Остается открытым вопрос, зачем молодому режиссеру вообще понадобилась эта архаичная, но, тем не менее, сильная драма, особенно для тех, кто знаком с литературным контекстом. Окружение сценического хаоса из тряпичных кукол и яркого конфетти не дает ясного представления о сути спектакля Театра им. Маяковского.
Оглашается, что быть разбойником плохо, месть не является христианским чувством, а ложные идеалы ведут к трагедиям. Однако для глубокого понимания оригинального замысла лучше ознакомиться с самой пьесой.