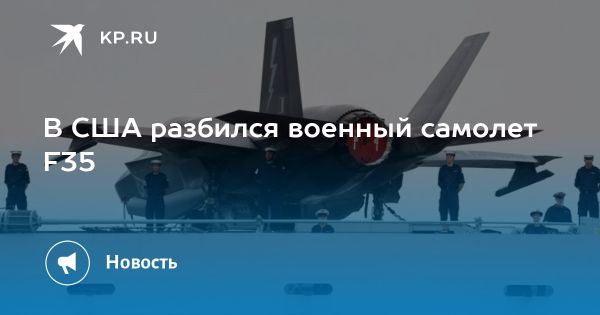С началом войны встал вопрос о создании военной кинохроники, способной поднять боевой дух и зафиксировать противостояние народа врагу. Осенью 1941 года, когда немецкие войска приближались к Москве, Сталин распорядился о формировании рабочей группы из оставшихся в столице кинематографистов.
В ее главе оказались два документалиста — Илья Копалин, ученик Дзиги Вертова, и Леонид Варламов. Они быстро организовали команду из тридцати человек и уже в феврале 1942 года представили фильм «Разгром немецких войск под Москвой», ставший образцом военной хроники и завоевавший первый «Оскар» для страны.

«Наша армия переходит в контрнаступление под Москвой, мы готовимся к удару по врагу, который, надеюсь, не выдержит и отступит... Это нужно зафиксировать на плёнку», — говорил Сталин. В то время имена Копалина и Варламова были не так известны, поскольку их окончательная заслуга была признана лишь позже. Дочь Ильи, Галина, узнала о том, что её отец стал лауреатом премии, лишь в 60-е годы, когда наткнулась на статью в архиве.
Илья Копалин родился в Подмосковье и начал свою карьеру в кино в 1925 году, попав в команду Дзиги Вертова, основателя документального кино. Среди его соратников был и знаменитый художник-авангардист Александр Родченко.
Илья, проходя путь от «киноразведчика» до режиссера, в июле 1941 года занял пост начальника фронтовых киногрупп. Его коллега, Леонид Варламов, родом из Армении, начал карьеру в кинематографе в 1929 году.
После завершения режиссерского факультета в 1931 году, он трудился на различных киностудиях, включая работу над киножурналом «На защиту родной Москвы», фрагменты которого позже вошли в фильм «Разгром…». Воспоминания Копалина о создании картины подчеркивали, что они с Варламовым разработали лишь ориентировочный план, который зависел от текущих событий и работы операторов.
Операторы, возвращаясь поздно ночью на студию с уникальными кадрами, трудились над обработкой материала, несмотря на сложности и потери. Были случаи, когда в возвращающейся машине находились тела погибших товарищей и поврежденная аппаратура. Осознание успехов армии подталкивало их к быстрейшему созданию фильма, чтобы показать народу плоды первых побед.
Монтаж происходил в условиях стресса, в холодных помещениях, без отрыва на укрытие даже во время воздушных тревог, так велико было желание донести информацию до зрителей как можно скорее.
На фронте операторы столкнулись с множеством серьезных проблем. Им приходилось не только рисковать, находясь в гуще боя, но и жертвовать своей жизнью ради удачного кадра в тяжелых полевых условиях. Освещение часто было невыносимым: дым, пыль, дождь, снег и мороз делали съемки крайне сложными. Обычные камеры не подходили для этих условий, так как их громоздкость не позволяла быстро реагировать на изменения обстановки и подвергала операторов смертельному риску.
Поэтому было решено перейти на камеры «Аймо» от компании Bell & Howell, но не только их использовали — в СССР также начали выпускать аналоги «КС-4» и «КС-5». Ранее эти камеры использовались младшими операторами для съемки дополнительных материалов, и именно они имели опыт работы с «Аймо». Таким образом, война привела к появлению нового поколения кинематографистов, способных адаптироваться к требованиям фронтовой съемки.
Необходимыми стали мобильные киногруппы, которые могли быстро перемещаться и снимать в условиях боя. Первоначально команды состояли из пяти-девяти человек, но это оказалось неэффективным. В итоге операторы начали работать в парах, снимая одновременно различные планы. Однако возникла еще одна проблема — дефицит пленки. Две камеры могли унести лишь ограниченное количество катушек, каждая из которых хватала всего на минуту съемки. Операторам приходилось выстраивать кадры «на глаз», полагаясь на свой опыт, а в мороз устройства нередко приходилось отогревать собственными телами. Да и главный вызов заключался в отсутствии фронтового опыта и прохладной реакции на шокирующие события.
Многие операторы отмечали, что им было трудно запечатлеть человеческие страдания и смерть во время войны. Они испытывали мучительные чувства, поскольку знали, что снимать правду — это их долг.
Один из операторов, Роман Кармен, вспоминал, как в момент гибели советского самолета он не смог снять этот трагичный момент, потеряв себя в горечи и слезах. Его потом терзали сомнения по поводу упущенного кадра.
Другой оператор, Анатолий Крылов, делился впечатлениями о Смоленске: он помнил город до войны с его красивым старинным Кремлем, а теперь видел его руины, утопающие в пепле. Груды развалин, сгоревшие дома, люди, борющиеся с огнем — все это оставило глубокий след в его сознании.
Эти сильные образы составили визуальный ряд фильма: атаки с различных ракурсов, батальные сцены с танками, пехотой, крупные планы бойцов с их страданиями и горем. Разрушенные города, храмы и музеи стали отчетливым свидетельством невиданного разрушения.
Генерал Евгений Жидилов подчеркивал, что работа оператора на фронте сравнима с действием бойца с оружием, отражая крайне высокую эмоциональную нагрузку и ответственность.
Оператор на фронте должен быть собранным и точным. Если у военных был лозунг сражаться до последнего патрона, то у кинематографистов — до последнего кадра пленки.
В суровых условиях войны, когда 22 июня началось вторжение, существовала лишь горстка бойцов, состоящая всего из 250 человек. Тем не менее, каждый пятый из них не вернулся, заплатив своей жизнью за запечатление исторических событий на пленку.
Первый «Оскар», завоеванный российскими кинематографистами, стал вехой не только для нашей страны. Это была первая в мире кинонаграда в категории документального кино, так как до этого не существовало такой номинации. Кроме того, он стал первым «Оскаром» для иностранного фильма, что было важно, так как ранее эта награда считалась исключительно национальной.
Несмотря на международный успех документального фильма о защите Москвы, в Советском Союзе о создании и триумфе этого фильма не говорили. Кадры кинохроники из ленты часто показывались по телевидению и использовались в фильмах о Великой Отечественной войне.
Вокруг премии возникли даже конспирологические теории, утверждающие, что «Оскар» был вручен другой, американской картине. Однако истинное название русской работы звучало как «Разгром немецких войск под Москвой», но приз получил фильм с адаптированным названием — «Moscow Strikes Back».
Это вполне возможно, учитывая, что в титрах можно увидеть множество иностранных имен, включая директора Николаса Наполи и режиссера монтажа Славко Воркапича. В истории кино такого рода адаптация названий не редкость, особенно с целью привлечения местной аудитории.
В главной роли фильма выступает Эдвард Г. Робинсон, звезда довоенных социальных драм, а музыку к картине написал Дмитрий Темкин, российский композитор и классик американской киномузыки, который эмигрировал в США и окончил Санкт-Петербургскую консерваторию. Несмотря на это, американская пресса называет фильм исключительно русским.
В тот период, когда мир был в разгаре борьбы с немецким нацизмом, многие рецензенты подчеркивали, что фильм — это исторический документ, отражающий реальность боев, а не искусно инсценированные сцены.
В описаниях фильма упоминаются настоящие моменты сражений, отснятые в условиях жестоких боев, что делает картину уникальной. Один из рецензентов отмечает, что зрителям с крепкими нервами будет нелегко смотреть на изувеченные тела жертв нацистской жестокости. Однако, несмотря на шокирующие кадры, пленные немцы показывают, что советские солдаты придерживаются международных норм ведения войны, что удивляет зрителей.
По окончании просмотра в переполненном зале царило напряжение до последнего кадра, что привело к громким аплодисментам аудитории. Боб Уайл из «Моушн Пикчер Геральд» в декабре 1942 года также подчеркивает, что в фильме представлены волнующие эпизоды настоящих боёв, которые превосходят всё ранее увиденное в этом жанре.
Некоторые эпизоды фильма могли быть сняты в маневрах, однако эти кадры не выглядят как инсценировка. Прежде чем американские пропагандисты начнут производить свои военные картины с голливудскими операторами на фронте, им стоит внимательно изучить этот фильм.
Критики, такие как известный киножурнал «The Hollywood Reporter», заметили слабый монтаж, особенно в эпизодах, изображающих зверства нацистов, что превышало рамки хорошего вкуса в документальном кино. Это может объяснить необходимость пермонтажа, который был проведён для адаптации картины под восприятие американской аудитории, обладающей своими монтажными приёмами.
Авторы сценария, Пол и Мальц, добавили комментарии к кадрам, разъясняющие их значение, озвученные голосом Робинсона. Например, о маршале Тимошенко: «Великий полководец выступает перед бойцами» или о непобедимости русских: «Если бы нацисты читали 'Войну и мир', то заранее знали бы свою судьбу». Подобное отношение к России стало причиной части критиков утверждать, что «Оскар» был присуждён идеологическим причинам.
Однако из отзывов американской прессы видно, что фильм воспринимается как прорывной и новаторский. Альтон Кук из «Уорлд Телеграмм» рекомендовал его к просмотру, что свидетельствует о том, что американские операторы могут учиться у советских коллег, как снимать войны, как это сделано в «Разгроме немецких войск под Москвой». Поэтому «Оскар» определённо можно считать достижением советского кино.