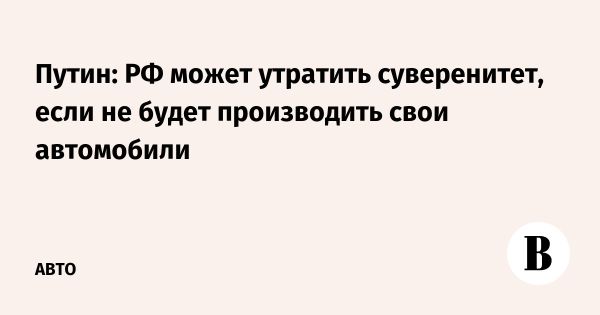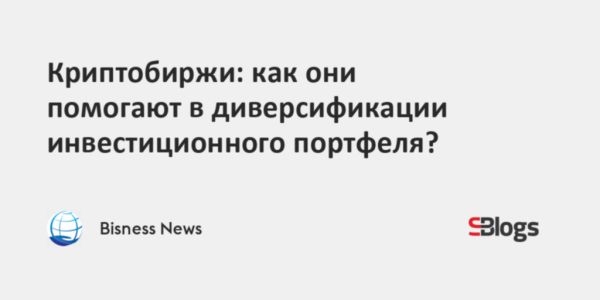Второе полугодие 2025 года российская экономика начала с тревожными макропоказателями. За первое полугодие рост промышленности не превышает 1%, а дефицит бюджета достиг 3,7 трлн рублей, что составляет 1,7% от ВВП. Нефтегазовые доходы упали почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,7 трлн рублей.
Сектора, такие как финансовый, сырьевой и ВПК, столкнулись с неопределенностью и находятся на развилке, как показал разговор с Олегом Буклемишевым, директором Центра исследования экономической политики МГУ.
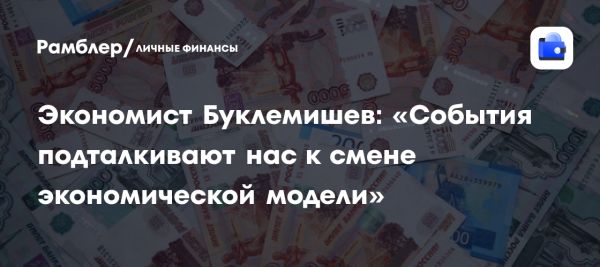
Мнение о состоянии экономики разнится среди чиновников. Глава Минэкономразвития, Максим Решетников, указывает на «грань рецессии», тогда как министр финансов, Антон Силуанов, называет ситуацию «плановым охлаждением». Что касается текущего состояния, Буклемишев считает, что российская экономика испытывает трудности.
Однако важно понимать, что формально рецессия фиксируется при двух кварталах подряд снижения производства. Для точной оценки ситуации необходим детальный анализ, что трудно делать в условиях быстро меняющейся и неопределенной ситуации.
Современные сдвиги в экономике России формируют важные тенденции, отражая наличие двухскоростной модели. Основная часть роста сосредоточена в узком секторе, связанном с военно-промышленным комплексом (ВПК), тогда как другие отрасли промышленности либо стагнируют, либо демонстрируют спад.
Ключевой проблемой является бюджетный дефицит, который стал основным индикатором финансовой устойчивости текущей экономической модели. Этот дефицит указывает на неспособность экономики функционировать длительное время в условиях аврального режима: финансирование возможно только за счет долга или использования накопленных резервов, которые практически исчерпаны.
Долгосрочная перспектива вызывает серьёзные опасения, особенно в контексте технологического развития. Налаженные санкции со стороны Запада изолируют Россию от иностранных инвестиций и современных технологий.
Опасения вызывает также зависимость от Китая, который не всегда готов делиться своими ресурсами. Кроме того, возникает вопрос о способах поддержания конкурентоспособности страны на мировом рынке, особенно учитывая, что традиционные экспортные статьи, такие как сырьевые ресурсы и оружие, теряют актуальность.
Изменения в структуре глобальной экономики и переход к возобновляемым источникам энергии ставят Россию в сложное положение, требующее переосмысления стратегий развития.
Актуальные вопросы торговли с внешним миром важнее, чем проблемы с инфляцией или дефицитом бюджета. За первые шесть месяцев текущего года дефицит бюджета составил 3,7 трлн рублей, что уже превышает прогноз в 1,7% от ВВП.
Эксперты предсказывают дальнейшее ухудшение ситуации к концу года, когда традиционно растут расходы. Несмотря на это, угрозы для бюджета пока не наблюдается. Основные решения будут приниматься Минфином: часть дефицита может быть компенсирована за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ), увеличение госзаимствований и, возможно, повышение инфляции.
Однако, важной проблемой остается распределение бюджетных расходов. Неизвестно, какие статьи бюджета требуют пересмотра — это могут быть как военные расходы, так и компенсации по льготным кредитам.
Кроме того, сокращение нефтегазовых доходов — следствие санкционного давления, снижения экспорта и нестабильности валютного курса. Замедление темпов роста экономики также негативно сказывается на ненефтегазовых доходах, что делает прогнозирование будущего дефицита затруднительным.
Параметры бюджета были пересмотрены в апреле, а дефицит увеличен до 1,7% от ВВП. Однако эксперты полагают, что такие значения могут потребовать дополнительной корректировки в будущем.
В современном финансовом климате консолидация бюджета стала необходимостью, что негативно сказывается на ключевых расходных статьях, особенно в области технологического развития. Ситуация усугубляется сокращением ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ). Даже с возможным повышением предельной цены для нефтегазовых доходов, восстановить резервы ФНБ до уровня 2021 года (объем в 13,8 трлн рублей, ликвидная часть — 8,5 трлн рублей) будет затруднительно. Основное внимание необходимо сосредоточить на финансировании текущих расходов, что ставит под вопрос возможность откладывать средства на будущее.
Являясь очевидным, необходимость в переосмыслении экономической модели становится все более актуальной. Продолжительные сокращения других статей расходов не могут быть единственным выходом. Повышение налогов также может усложнить ситуацию, инициируя еще большее торможение экономики.
Критика со стороны русских промышленников и депутатов Госдумы в адрес Центробанка вновь поднимает важный вопрос: действительно ли высокая ставка затягивает развитие реального сектора? Несмотря на регулярные призывы к изменению ситуации, критика, по моему мнению, не всегда обоснована. Центральный банк, хотя и допустил ошибку, переоценив свои силы в борьбе с инфляцией, реагировал на первые признаки роста цен, слишком резко ужесточая свою денежно-кредитную политику. Однако, учитывая изменения в структуре российской экономики, был недостаточно реалистичен в своих ожиданиях относительно достижения инфляционных целей.
Неудачный блицкриг в экономике России был вызван искаженными структурами финансовой системы и продолжающейся бюджетной экспансией, что исключало скорость достижения поставленных целей.
Однако, после определенного времени, регулятор начал ослаблять давление по достижению целей, не имея возможности понизить ставки — это могло привести к ошибочным ожиданиям на рынке. В текущих условиях для сдерживания инфляции необходимо сохранить высокие процентные ставки длительное время. Это ставит Россию в сложное положение: с одной стороны, необходимо следовать правильной денежно-кредитной политике, с другой — есть изначальные ошибки, ставящие под сомнение возможность скорого достижения результатов.
Неразбалансированная монетарная сфера является обязательным условием для экономического роста. Важно рассмотреть более умеренные подходы и длительные временные рамки.
На данный момент, звучат призывы повысить целевой ориентир инфляции до 7-8%, но стоит ли это делать? Инфляция в 4% представляется далекой целью. Например, в начале июля инфляция возросла на 0,79% из-за увеличения тарифов ЖКХ. Этот скачок был ожидаем, но в целом, базовая инфляция продолжает снижаться, если игнорировать колебания в тарифах и других нестабильных элементах.
При текущей денежно-кредитной политике, в смягченном варианте, следует ожидать дальнейшего снижения инфляции, если не произойдут новые фискальные импульсы. Текущий рост бюджетных расходов финансируется из Фонда национального благосостояния, что фактически означает перенос средств из прошлого в настоящее.
В последние годы наблюдается концентрация расходов, что может отрицательно сказаться на инфляционных процессах. Не стоит рассчитывать на значительное влияние фискальных мер на инфляцию в будущем, что ставит под сомнение необходимость изменения инфляционного таргета.
Простая корректировка таргета не решит глубоких экономических проблем и лишь подтвердит, что Центробанк не может добиться инфляции на уровне 4%. Это может означать, что инфляция останется выше ожидаемого уровня. Текущий таргет установлен в условиях экономического кризиса 2014 года, когда наблюдались резкие колебания цен на нефть и волнения на валютном рынке.
Повышение таргета Центробанком указывает на более серьезную оценку экономики, чем в кризисные времена. Внешние риски, такие как санкции и замедление глобального ВВП, также представляют собой угрозу. Нам необходимо понять, как Россия планирует интегрироваться в мировую экономику, действуя в условиях, когда её доля составляет всего 3–4% от глобального ВВП.
Эти факторы — давление со стороны администрации Трампа, снижение цен на энергоресурсы и неопределенные экспортные рынки — являются частью общего вызова, который стоит перед нашей страной в сфере мировой торговли.
В условиях актуальных вызовов наша жизнь стала постоянной адаптацией к меняющимся обстоятельствам. Экономика не может длительное время оставаться в состоянии кризиса, как, например, российский теневой флот, который вынужден постоянно пересматривать маршруты и контрагентов. Необходимо обращать внимание не только на краткосрочные риски, но и на создание устойчивых механизмов для долгосрочного функционирования.
Ситуация с рублем также вызывает серьезные вопросы. Начиная с марта, постоянно обсуждается укрепление рубля и перспектива его разворота. Последние аналитические данные Bank of America признают рубль «самой успешной валютой 2025 года», однако неясно, как использовать эту информацию. Курс рубля по отношению к доллару США напрямую влияет на экономические издержки страны, однако государство не располагает достаточными методами для воздействия на ситуацию.
Скорее всего, рано или поздно рубль начнет ослабевать, поскольку невозможно поддерживать его стабильность в условиях стагнации и высокой инфляции, особенно на фоне усиливающегося геополитического давления. Рано или поздно эта пружина даст сбой, и чем дольше продолжается текущая курсовая нестабильность, тем тяжелее будут последствия.
Ситуация с рублем — это лишь один из аспектов функционирования российской экономики в международном контексте. Из-за неопределенности частный сектор сдерживает запуск новых проектов и импорт высокотехнологичных товаров, а потребители не стремятся увеличивать спрос на иностранные продукты и услуги. К примеру, на складах автодилеров скопилось около полумиллиона нераспроданных автомобилей, большая часть из которых — китайские модели. Основная причина заключается в высоких ценах, вызванных налогами и накрутками, что делает как российские, так и китайские автомобили недоступными для значительной части населения.
Тем не менее спрос со стороны домохозяйств составляет около 50% национального ВВП, что делает его критически важным фактором для экономического роста и для понимания того, как население оценивает свое финансовое будущее. Необходим комплексный подход к решению актуальных проблем, который охватывает такие аспекты, как инфляция, курс валюты, бюджетный дефицит и нехватка кадров. К сожалению, пока такой системный подход наблюдается лишь в общих чертах.